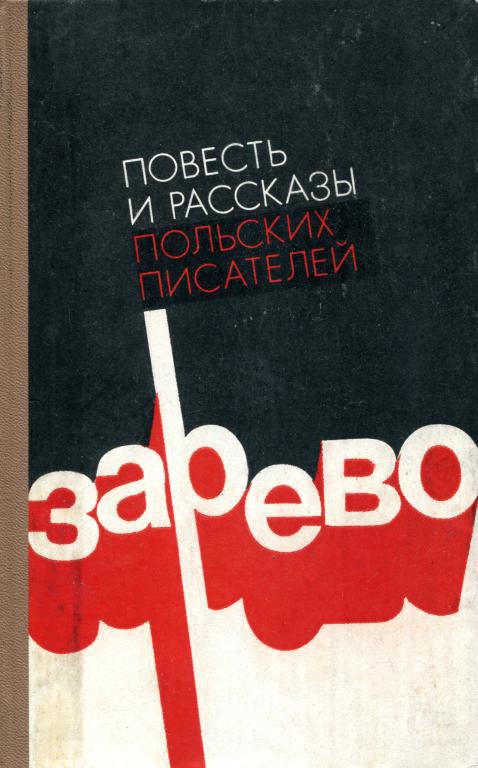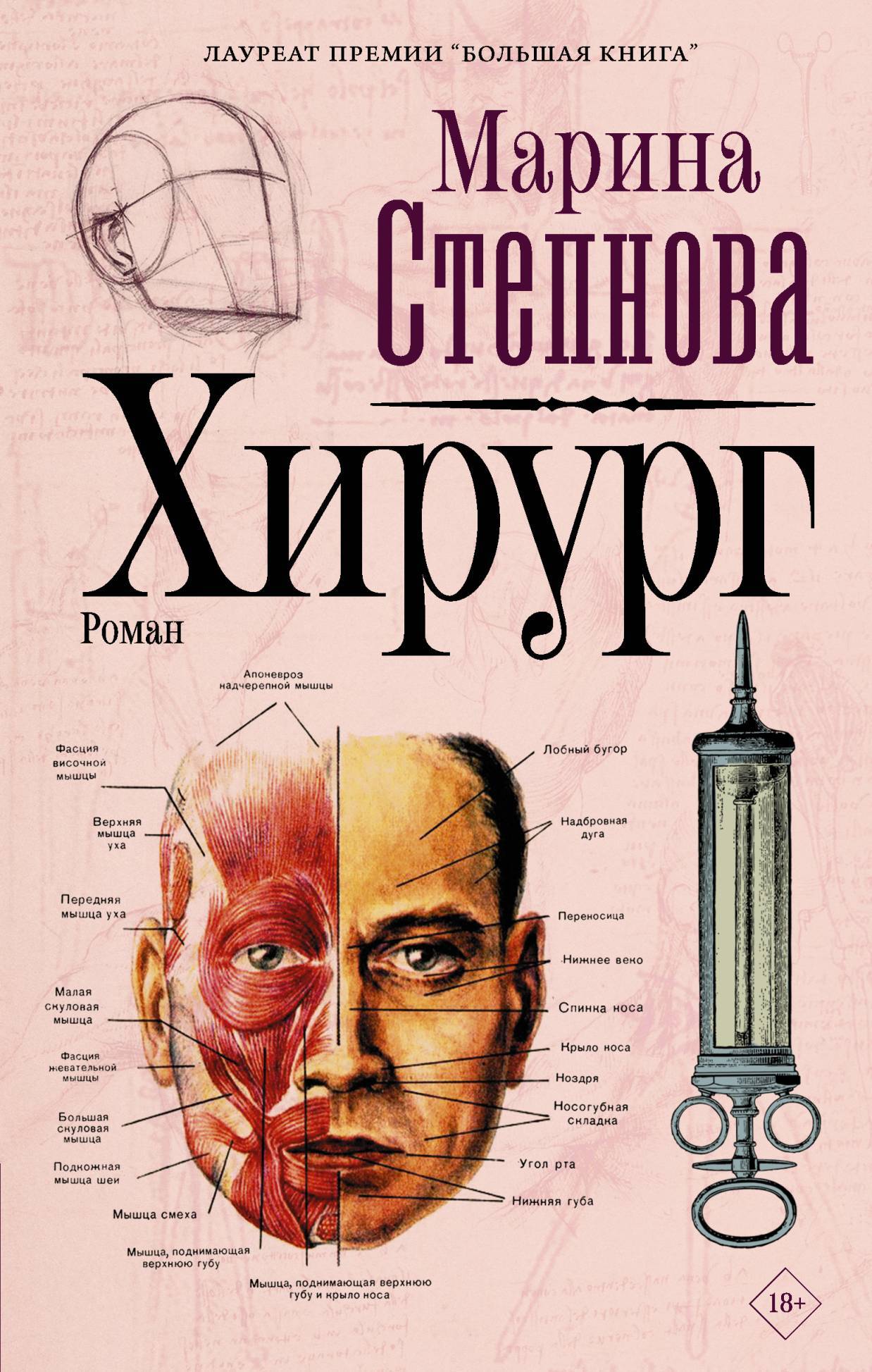нравилось происходящее.
Потом мы лежали и смотрели на облака, похожие на куски ваты. Стрекотали насекомые, а я украдкой любовалась Мариной. Её веснушки от солнца стали ещё более золотыми, коса стелилась по зелёной траве. Меня грел сам факт: я наедине с новой подругой.
Что в ней было таинственного? Я взрослая делаю глоток чая с молоком и понимаю, что она была обыкновенным подростком из девяностых. Как я. Постсоветским и распахнутым. Диким, как сорняк. Как одуванчик, выросший между бетонных плит московской стройки.
Хотя она тоже была ребёнком, рядом с ней я ощущала себя взрослее. Вернее, я чувствовала потребность взрослеть прямо сейчас, немедленно, ни минуты больше не медлить.
Когда Марина вынула из банки цветочки и стала рассматривать получившиеся завитки, она спросила меня, пробовала ли я молоко из их стеблей. Я сказала, что его трудно не попробовать, когда всё детство делаешь из них свистульки.
А она вдруг посмотрела на меня пристально, помолчала несколько секунд и прошептала: “Оно сладкое”. Какое-какое? “Сладкое”.
В Марине было это. Способность называть чёрное белым, раздвигать границы, нарушать правила, ставить под вопрос прописные истины. Я бы, может, и рада была, если бы молоко одуванчиков было как мёд. Но оно было досадно горьким, и мне всегда приходилось тщательно облизывать губы после игр с этим растением.
Но Марина настаивала. Я сорвала очередной цветок у нашего импровизированного изголовья, показала ей белый ободок на срезе и предложила: “На! Попробуй сама, оно отвратительное, это вообще не молоко никакое, его невозможно пить. Им можно отравиться”.
Она стояла на своём и велела мне попробовать жидкость самой, чтобы убедиться. Я взяла стебелёк в рот и втянула в себя то, что из него выделялось. Омерзительно. Почему я всё время соглашалась на её странные инициативы, поддавалась манипуляциям? Отчего мне так важно было любой ценой сохранить контакт с Мариной?
Она, улыбаясь и щуря глаза, уверяла меня, что я ошиблась в своих ощущениях и на этот раз и сок – сахарный. Она даже якобы добавляла его в чай.
Я попыталась поспорить: “Но мои губы горькие прямо сейчас!”
Она засмеялась и предложила: “Ну хочешь, я докажу тебе и попробую его сейчас тоже? Прямо с твоих губ?”
С моих губ? Мной было легко вертеть. Мгновение назад я ещё спорила с ней, опираясь на какой-никакой, но собственный опыт. И вдруг я замираю в смятении. Она продолжила: “Приоткрой рот, и я слижу”. Я сделала как она просила и рефлекторно закрыла глаза. Я не успела понять происходящее, но та степень близости, которую мне предлагала эта едва знакомая девочка … эта степень выходила далеко за пределы того, что я испытывала в жизни или могла испытывать даже в самых ярких фантазиях.
Рилз должен был быть таким. Я сижу перед Мариной, закрыв глаза и приоткрыв рот – в ожидании чего-то, близкого к первому соприкосновению с губами другого человека. Хотя она всегда могла бы объяснить, что просто пробовала молоко одуванчиков.
Я зависла так на долгие, вязкие, мучительные мгновения. А она …
…Так и не прикоснулась ко мне, сделав паузу и страшно, как только она и умела, засмеявшись. Дьяволица. “Ты что, правда подумала, что я слижу молоко с твоих губ?”
Я ничего тогда не думала, но помню точно, что мои губы были горькими.
Поздним вечером 18 января, когда я вернулась с балкона, стряхнула с волос снег, сняла пуховик и увидела тег в рилз в инстаграме, моё тело что-то вспомнило.
От самого низа, от земли, от пола, от ковра, от пяток в домашних шлёпанцах, через икры и бёдра – к тазовому дну, к промежности. К ягодицам и нежной коже ляжек. Этот бег озноба по коже охватывал меня всю. Выше – к мягкому после родов животу, к молочным железам, к солнечному сплетению. Через шею – в затылок, в челюсть, всё лицо. Губы, щёки, нос, веки, брови, лоб. И наконец-то макушка – словно кто-то пробил в моей голове дырку в открытый космос. В холод балкона, где тихо шёл снег.
Меня передёрнуло от воспоминаний, которые моментально пронеслись перед глазами, когда Марина Минкина отметила меня в рилз. Передёрнуло так сильно, как будто с меня вдруг со звоном осыпалась ледяная корка. Впервые за многие месяцы я почувствовала себя живой. Я проснулась.
И я написала ей в директ.
“Привет, рада видеть тебя. Давай встретимся на кофе?”
Екатерина Манойло
Мы с тобой одной крови
Кровь вышла из меня 23 декабря 2000 года на школьной дискотеке, я запомнила дату, потому что в этот день впервые надела лифчик и считала себя очень взрослой.
очень. взрослой. я. считала. себя. двадцать. четыре. года. назад.
Потом было всякое:
селфхарм, на коже шрам, на шрам тату – типа шарм.
Никто не размазывал по моему лицу (и хорошо) кровь после дефлорации,
потому что моя юность – фильмы Балабанова,
а не Бертолуччи.
Мне хочется думать, что моя кровь дикая,
как в венах Хэтфилда из песни Mama Said,
кантри-баллада, когда все ждали
треша
металла
железа.
а железо было только на обложке альбома в крови быка, смешанной с семенем Андрэ Серрано.
Я окончила Лит, а там учили избегать физиологию. Не называть сперму спермой, а дерьмо дерьмом.
по отёкшим моим ногам в ночь на 28 октября 2008 года ползла кровь и ползло дерьмо.
И этому вас только учат в Лите? Нет!
Боль 10 из 10.
Я умоляла, чтобы ЭТО вытащили из меня.
Медсестра смеялась и спрашивала,
неужели мама не рассказывала мне, как рожать.
Mama Said …
нет такой песни, в которой мама бы говорила:
“Знаешь, лучше не рожай, не имей дело с семенем, эта боль невыносима”.
В душевой, которая больше похожа на комнату для мытья собак, я встала на четвереньки, как собака, и подставила поясницу под струйку еле тёплой воды. Я смотрела на кафель и думала, что мой таз тоже сделан из кафеля и прямо сейчас по нему проходятся зубилом и молотком.
Потом пришла врач, а я забыла её отчество.
– Альбиночка, пожалуйста!
– Какая я тебе Альбиночка?!
Говорила так, будто я преступница,
пришла к ней в дом и испортила простыни
и вечер
и не даю спать.
В родильном отделении нас двое, соревнуемся раскрытием. Не роженицы – амазонки!
Девочке на вид лет шестнадцать. Она из Алимбетовки.